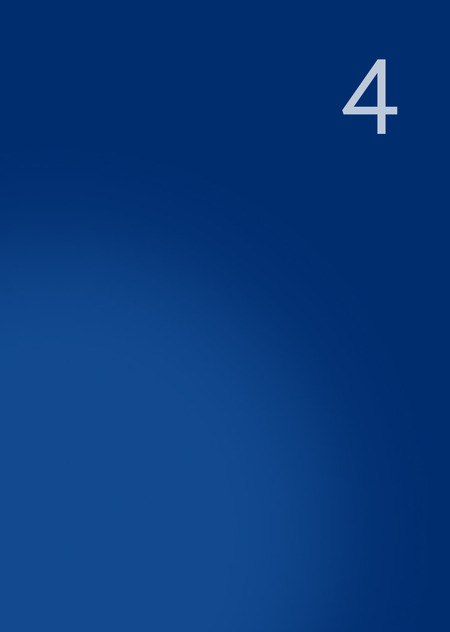
Русский музей и Благотворительный фонд «Система»
Инклюзивный отдел Русского музея
Работа Русского музея с людьми с особыми потребностями началась еще в начале 1990-х годов. Первым шагом стала выставка художественных работ людей с особенностями развития, организованная в 1991 году куратором Наной Жвитиашвили. На базе отдела музейной педагогики вскоре открылась арт-терапевтическая студия для детей-сирот, детей в сложной жизненной ситуации и детей с особенностями развития. Ее цель заключалась в том, чтобы с помощью изобразительного искусства и музейной среды оказывать психологическую поддержку. Постепенно это направление развивалось: создавались методические материалы, которые публиковались и распространялись. За вклад в становление музейной арт-терапии Н. Жвитиашвили и О. В. Платонова были удостоены Государственной премии РФ в области культуры и искусства.
В 2004 году арт-терапевтическое направление выделилось в отдельный сектор при Центре музейной педагогики. Коллектив сектора постепенно расширялся, к нему присоединялись новые сотрудники. Позже появилась «Школа волонтеров» для специалистов помогающих профессий, где музейные педагоги делились опытом и обучали коллег методам музейной арт-терапии. Многие участники этой программы стали применять полученные знания в своей практике. Кроме того, сотрудники сектора проводили арт-терапевтические и образовательные программы в разных регионах России.
Постепенно работа с людьми с особыми потребностями стала вестись в Русском музее на постоянной основе, не ограничиваясь отдельными проектами. Итогом этого развития стало создание в 2015 году Отдела социокультурных коммуникаций. Сегодня в нем работают 12 специалистов — музейные педагоги, психологи, арт-терапевты, художники и менеджеры музейных программ.
Одной из новых и значимых инициатив отдела стал Форум «Инклюзия в художественном музее: от идеи к изменениям», о котором мы беседовали с руководителем отдела инклюзивных программ Русского музея Ольгой Гончаровой.
Форум «Инклюзия в художественном музее: от идеи к изменениям»

Форум задуман как пространство для открытого и поддерживающего диалога, где профессионалы с разным опытом делились друг с другом не только успешными кейсами, но также сложностями. Изучали инклюзию в музеях в широком контексте, не только как на взаимодействие с людьми с инвалидностью, но как на возможность учитывать опыт и потребности самых разных аудиторий. Организаторами форума выступили Русский музей и Ассоциация художественных музеев России в партнерстве с Центром социальных инноваций «Музейный опыт».
Практически все участники отметили, что у них появились новые идеи — программ, сотрудничества с другими коллегами и НКО, а также о том, как выстраивать свою работу и взаимодействовать с аудиторией. Позитивная атмосфера форума способствовала открытым обсуждениям и обмену мнениями. Участники чувствовали себя частью сообщества, что является важным фактором для дальнейшего развития инклюзии.
Ольга Гончарова — руководитель отдела инклюзивных программ Русского музея.
Инклюзивные проекты Благотворительного фонда «Система» и сотрудничество с Русским музеем

Руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система» рассказал о том, как фонд работает с темой инклюзии: от системной поддержки Русского музея до небольших локальных инициатив. В интервью — примеры реализованных проектов, размышления о равном доступе к искусству и о том, почему добрые дела все же требуют огласки.
Сергей Александров — руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система».
С какими музеями вы работаете в сфере инклюзии? Есть ли среди них постоянные партнеры?
Ключевой партнер, с которым мы сотрудничаем в этом направлении, —Русский музей. В настоящее время — это основной благополучатель в области культуры и искусства, где на системной основе поддерживаются проекты, направленные на развитие инклюзивной среды и обеспечение равного доступа к объектам культуры, в том числе с использованием цифровых решений.
Насколько инклюзия входит в число ваших приоритетов? И как вы понимаете этот термин в своей практике?
Если рассматривать инклюзию в широком смысле, как предоставление равного доступа к возможностям для всех, это один из наших ключевых фокусов. Это отражено в нашей миссии — развитии социального и человеческого капитала в регионах России через предоставление равных возможностей для раскрытия личностного, творческого, социального и профессионального потенциала участников программ.
Можете привести примеры реализованных проектов, связанных с инклюзией, пусть даже не напрямую с музейной сферой?
Один из наших небольших, но добрых партнерских проектов, реализуемых совместно с ГК «МЕДСИ», галереей современного искусства Sistema Gallery и Объединением «Гжель» — «Искусство возможностей». Один из блоков проекта направлен на поддержку школьников, интересующихся искусством — это бесплатные творческие авторские мастер-классы в галерее Sistema Gallery, встречи с художниками, конкурсы, которые направлены на раскрытие творческого потенциала ребят. Второй блок — арт-терапевтические занятия для тяжелобольных пациентов. Так, художники, сотрудничающие с галереей, провели мастер-классы для волонтеров Фонда, которые впоследствии самостоятельно вели занятия в онкоотделениях клиник МЕДСИ. Также к нам присоединились художники Объединения «Гжель», которые проводили мастер-классы по традиционной гжельской росписи. Основная задача — не постичь в совершенстве технику, а содействовать улучшению психологического состояния пациентов, находящихся в условиях стационара, пусть ненадолго, но отвлечь от тяжелых мыслей и дать заряд позитивных эмоций. И, конечно, большую роль в этом проекте играет поддержка руководства клиники и медперсонала в реализации подобных практик.
Почему вы выбрали именно клиники МЕДСИ как площадку для этого проекта?
МЕДСИ — наш давний партнер, с которым реализуются масштабные проекты, в том числе Конкурс медицинских инноваций, где ученые-медики представляют передовые решения в области медицины и здравоохранения. Кроме того, как отметил выше — со стороны клиники была организована полная поддержка в реализации инициативы.
Насколько масштабный этот проект? И насколько активно участвуют волонтеры?
Инициатива реализуется уже третий год, мастер-классы проходят регулярно, но группы не могут быть большими — большую роль играет возможность уделить внимание каждому участнику. Много лет назад основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков сказал: «Наши возможности не безграничны, но мы делаем все, чтобы использовать их эффективно», поэтому мы продолжаем эту работу с фокусом на максимальную эффективность и пользу.В прошлом году «Искусство возможностей» получил награду «Лучший проект в сфере развития инклюзии» в премии «Лидеры корпоративной благотворительности», чему мы были очень рады. Для нас особенно ценно, что волонтеры, однажды присоединившиеся к проекту, остаются с ним надолго— это люди, которые осознанно и ответственно выполняют поставленную задачу, а слова благодарности пациентов после занятий лишь подтверждают, что мы все делаем правильно и появляется внутренняя мотивация продолжать эту работу.
А какие именно занятия вы проводите в рамках этого проекта?
У нас были различные мастер-классы по росписи тарелочек гжельскими орнаментами, росписи шоперов, а также, например, занятия по созданию фантастических диорам. Сначала участники рисуют пастелью на листе бумаги, а затем, когда рисунки готовы, мы даем им небольшую конструкцию из склееных под углом фанерок формата А4, прикрепляем к ней рисунок и с помощью пластилина и той же пастели предлагаем развить фантазию в 3D-формате. Мы работаем со взрослыми пациентами. Люди приходят и говорят: «Я со школы ничего не рисовал», или: «Только с внуком рисовала последний раз». Кто-то сразу увлекается, кто-то втягивается чуть позже, однако никто не уходит без своего шедевра и улыбки. Отзыв одной из пациенток был такой: «Даже если один человек придет — вы все равно приезжайте, занимайтесь, это важно». Такая обратная связь очень радует.
Вернемся к Русскому музею. Как долго вы сотрудничаете, и как менялись приоритеты этого партнерства?
Русский музей мы поддерживаем более 20 лет. До примерно 2017 года основное направление нашей поддержки было связано с выставочной деятельностью и внедрением цифровых решений. С 2017 года мы стали постепенно смещаться в сторону образования, просвещения и развития инклюзивных программ, в том числе с использованием «цифры». Мы, можно сказать, стали одним из первых благотворителей, обративших внимание на инклюзивный аспект музейной деятельности и поддержавших его.
Как вы пришли к этому направлению?
Несколько лет назад мы предложили рассмотреть проект на стыке искусства и образования. Тогда был создан первый онлайн-курс. Позже мы продолжили поддерживать создание новых курсов, в том числе с инклюзивными составляющими, и предоставили возможность их бесплатного размещение на нашей платформе «Лифт в будущее». Русский музей тоже проявил инициативу — это был обоюдный процесс. Далее от поддержки локальных инклюзивных программ перешли к более масштабным, которые органично вписывались в музейную повестку. Мы воспринимаем это как часть социальной миссии. Сейчас инклюзивные проекты составляют порядка 50% от объема поддержки проектов Русского музея.
Какая логика стоит за выбором проектов для поддержки? Что является вашим приоритетом?
Безусловно, существует множество проектов, достойных развития и поддержки. Для нас, в первую очередь, важно, чтобы инициатива соответствовала направлениям деятельности Фонда — поддержка талантливой молодежи, развитие регионов — наши ключевые приоритеты. Особенно ценны системные проекты — имеющие перспективу к масштабированию, продолжению работы после завершения поддержки.
Какие проекты Русского музея последних лет стали для вас особенно значимыми — по задачам, эффекту или личному отклику?
Из значимого: мы поддержали проект «Вне истеблишмента». В экспозиции участвовали художники с ментальными особенностями — подопечные интернатов. Выставка была адаптирована для посетителей с различными формами инвалидности зрения и слуха, с двигательными и ментальными особенностями. Это был первый подобный проект на площадке федерального музея.
Расскажите, какую роль он сыграл в формировании просветительской повестки?
Проект «Вне истеблишмента» сопровождался обширной просветительской программой в онлайн и оффлайн-формате. В общей сложности она собрала более 390 тысяч человек. Просветительская программа выставки включала онлайн- и офлайн-мероприятия: лекции от экспертов в области современного самодеятельного искусства; семинары по созданию доступной среды в музеях; дискуссии со специалистами; занятия на экспозиции с разными людьми: жителями социальных учреждений, людьми с особыми потребностями; встречи с художниками. Программа была рассчитана как на неподготовленную публику, так и на профессиональное сообщество.
Я знаю, что ваш фонд помог Русскому музею реализовать проект тактильной галереи в Строгановском дворце. Расскажите, пожалуйста, подробнее о процессе реализации этой идеи.
Особая гордость — тактильная галерея в Строгановском дворце. Там представлены около 25 копий скульптур из фондов Русского музея. Каждая модель была сначала напечатана на 3D-принтере, а затем доработана вручную. Мы старались добиться не только визуального, но и тактильного сходства с оригиналом. Например, чтобы модель, имитирующая дерево, действительно ощущалась как дерево, а не как пластик. Учитывались даже такие нюансы, как температура при прикосновении — чтобы бронза, например, ощущалась как холодный металл. Кроме того, при создании экспозиции учитывалась высота постаментов и расстояние между объектами, чтобы людям на колясках было комфортно и безопасно перемещаться, а разработанная световая схема пространства помогает людям с ослабленным зрением легче ориентироваться в пространстве.
Из статистики: в год более 4 тысяч представителей целевой аудитории посещают этот зал и имеют возможность прикоснуться к экспонатам. Но важно: зал открыт для всех. Нет деления на «обычных» и «особенных» посетителей. Каждый может слушать тифлоаудиогид, трогать объекты — и это, на самом деле, очень интересный опыт. Закрыв глаза и слушая комментарии, можно ощутить совсем иной способ восприятия.
Важно и то, что это — первая постоянная тактильная экспозиция в федеральном музее. До этого макеты создавались исключительно под временные выставки. А здесь — целый зал, посвященный тактильным объектам.
Можете ли вы рассказать о ваших проектах меньшего масштаба? Есть ли среди них интересные инициативы, которые отличаются по формату или охвату от крупных программ?
Есть небольшой проект по поддержке музейной арт-терапевтической студии «ЧИРК», где проходят занятия с детьми и взрослыми с ментальными особенностями. Проекту уже более пяти лет. Наша помощь направлена на закупку расходных материалов для проведения занятий. Также поддерживаем проведение экскурсий на РЖЯ, семейных квестов-экскурсий по музею, создание аудио- и видеогидов к постоянным и временным экспозициям. Независимо от того крупный или небольшой проект, мы понимаем, что все они важны и для развития музея, и, конечно, для участников. Кроме того, отработка и реализация инклюзивных практик в Русском музее становится примером развития для региональных музеев.
Как вы содействуете работе музея с разными типами аудитории в контексте повседневных экскурсий?
Для многих экскурсий предусмотрены аудиогиды и сопровождение на русском жестовом языке. У глухих и слабослышащих людей порой возникает дискомфорт, если экскурсия проходит в составе обычной группы. Поэтому для них организуются отдельные адаптированные сеансы с профессиональным гидом: подбирается удобное время, собирается целевая аудитория — и проводится серия экскурсий по соответствующим экспозициям.
Также мы помогаем Русскому музею готовить аудио-, видеогиды и тактильные макеты. Важно отметить, что все продукты, создаваемые для инклюзивной аудитории, проходят обязательную экспертизу профильных специалистов. Если это тактильная модель, ее оценивает слепой или слабовидящий эксперт. Один из примеров такой работы может служить тактильный макет головы «Демона» Михаила Врубеля. Экспертизу проводил полностью незрячий эксперт. Макет был готов, тифлокомментарий записан, но, когда эксперт начал изучать модель, на каком-то моменте остановился и сказал: «Я не понимаю, что это». Оказалось, что тыльная часть скульптуры — абсолютно плоский барельеф. Он почувствовал лицо, но не понял, что это именно голова, так как этот момент не был описан тифлокомментатором. В итоге пришлось дорабатывать аудиогид на основе полученной обратной связи. Такая работа ведется постоянно. Макеты не создаются ради галочки. Это важная часть: учитывать мнение тех, для кого создается проект.


Есть ли у вас опыт проведения специализированных образовательных мероприятий, посвященных инклюзии?
Наконец, мы подошли к форуму «Инклюзия в художественном музее: от идеи к изменениям». Он собрал около 50 представителей музеев из разных регионов России. Отбор участников проводился на конкурсной основе.
Организацией занимался Русский музей. Важно было собрать действительно заинтересованных специалистов. По мотивационным письмам отбирали тех, кто реально хочет развивать тему инклюзии. Нет смысла «посылать кого-то за компанию». Если человек приехал «по разнарядке» — эффект будет минимальный. А у нас собралась действительно целевая аудитория.
В прошлом году было получено более 100 заявок, отобрали 55 участников. одним из результатов Форума стала задача создания методических материалов по цифровой доступности российских музеев — сейчас ее разрабатывает Русский музей с участием профильных экспертов. Она скоро будет опубликована и бесплатно распространена среди учреждений.
Вы уже упомянули работу с цифровыми форматами. Расскажите подробнее, какие курсы или лекции по искусству существуют уже сейчас.
На образовательной платформе «Лифт в будущее», созданной нашим Фондом, представлено несколько курсов, которые будут интересны как неподготовленной аудитории, так и тем, кто хочет глубже погрузиться в нюансы русского искусства. Все это — бесплатно. Курсы авторские, содержат материалы, которые часто не встретишь даже на экскурсиях. Например, про русское искусство XX века: чем одно течение отличается от другого. В них легко запутаться. Особенно если говорить о начале XX века, об истоках, влияниях и переходах между течениями. Еще один из интересных курсов — «Машины образов. Что делать с фотографией?». Автор говорит о восприятии фотографии как феномена, который не существовал до появления самого фотоаппарата. А, например, курс «Искусство и наука» расскажет, как влияли на художников ученые.
Как вы оцениваете сегодняшнюю динамику — насколько тема инклюзии становится по-настоящему значимой в обществе? Видите ли вы в этом устойчивую тенденцию?
По моим наблюдениям, за последние пять лет произошел качественный скачок. Возможно, кто-то изначально увидел в этом модный тренд. Но сейчас большинство участников четко понимают, что и для кого они делают. И это очень радует. У любого проекта есть этап, когда ты только знакомишься с темой, а потом — реализуешь на практике. И тогда становится ясно, твоя это история или нет.
Количество участников, вовлеченных именно в направление инклюзии, год от года растет. Даже если кто-то постепенно отходит, все равно формируется устойчивое ядро, которое последовательно развивает повестку. Это становится органичной частью как программ благотворительности, так и корпоративной социальной ответственности. Явно наблюдается тенденция: бизнес и общество начинают осознавать важность этой темы.
И в завершение: как вы относитесь к распространенному мнению, что добрые дела не требуют огласки?
Я считаю, что добрая инициатива не должна скрываться. Есть стереотип: «добрые дела любят тишину». А мне кажется наоборот — о них нужно рассказывать. Не ради самолюбования, а чтобы показать то, что делается, что это возможно, это работает. Здесь и начинается понимание, что каждый человек важен и не имеет значения, говорим мы о культуре, образовании или социальном развитии. Если мы говорим об устойчивом обществе, то обязаны учитывать потребности тех, кто по тем или иным причинам остался за пределами нашего внимания.
Каждый такой информационный повод — это капля, которая влияет на формирование общественного сознания.
Читайте далее
На следующей странице — интервью с Дарьей Муратовой, руководителем отдела просветительских и инклюзивных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль», и небольшой поэтапный гайд, как организовать музейный инклюзивный лагерь для детей.



